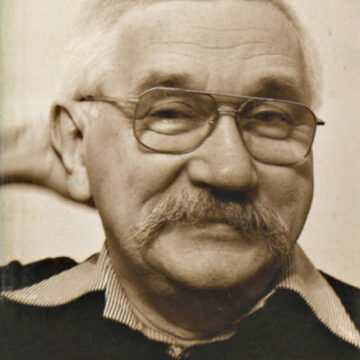– Мир сегодня – несмотря на, казалось бы, объединяющую всех (или стригущую всех под одну гребенку, если угодно) глобализацию – находится в таком нестроении, в такой растерянности, что на ум приходят разве только аналогии с нашествием варваров, рушащих цивилизацию.
– Такое впечатление действительно должно сложиться, если посмотреть на «новых варваров», хлынувших в Европу. Или на тех же европейских варваров-антиглобалистов, громивших недавно Гамбург. Но это, скорее, всего-то внешние признаки. Ничего нового в этом на самом деле нет.
Вся история человечества – это в известной мере история национальной розни и войн. В той же Европе, казалось бы, очень гомогенной, однородной по своему устройству, еще ведь совсем недавно, на нашей с вами памяти итальянцы северные хотели отделиться от итальянцев южных. Это было весьма серьезным предложением для части итальянской элиты.
– Это реакция на давление извне?
– Совершенно необязательно. Такое давление может идти как извне, так и изнутри, но его может и не быть. Проблема объединения Молдавии с Румынией, например, – за ней стоит давление каких-то внешних сил, России, вероятно, в том числе. Но кто стоит за шотландско-английской рознью? Или за возможным распадом Испании? Баски, каталонцы хотят обособиться, дело доходит до открытого неповиновения властям, но эти конфликты сформировались и развиваются без давления извне. Правда, угнетаются, давятся при поддержке зарубежной!
На тех же шотландцев извне никто не давит – ни Россия, ни Китай, ни ИГИЛ (по делу и по праву запрещенное в России образование). Brexit – разве результат внешнего давления? Рознь такого рода – наследие долгой истории. Сейчас уже почти не пишут о Северной Ирландии, кровь там не льется, но разве проблема решена, рознь преодолели? А ведь в этом конфликте, в столкновениях последних десятилетий ХХ века полегло народу больше, чем на Донбассе.
– То есть национальная рознь – традиционное состояние народов, обществ, государств?
– Для ответа на этот вопрос надо сначала попытаться дать определение традиции.
– Как вам такое: традиция – коллективная память, которая проявляется и фиксируется в различных образах и символах, как правило связанных со славным или тяжелым прошлым, и служит маркером «свой-чужой»?
– Безусловно, маркер «свой-чужой» лежит и в основе, и в проявлениях традиции. Представление о «своем» и «чужом», разнице между ними выстраивает, структурирует сознание. Любая индивидуальная идентичность заключается в познании границ своего «я». Коллективная формируется таким же образом, выстраиваясь из индивидуальных. Коллективная память – это сумма индивидуальных, «настроенных в унисон». Но есть и другое конституирующее свойство, определяющее ее природу, сущность: как раз она и настраивает индивидуальные сознания и воли «в унисон», приводит к единоголосию. Перед нами вариант дилеммы, что первично, курица или яйцо, индивидуальное или коллективное.
Если помните, была такая вроде бы пустяшная студенческая песенка: «Кто бывал в экспедициях, тем знаком этот гимн, и того по традиции мы считаем своим». Она простодушно воспроизводит всю структуру того, о чем мы с вами говорим: тот, кто был таким же, как мы, тот знает, что нас связывает. «…и того по традиции» – по традиции! – мы считаем своим. Вот вам и тот самый маркер «свой-чужой».
– А поскольку это гимн, то это еще и символ.
Верно, это гимн, не просто песня. Но традиция может быть и вполне обыденной, «профанной». По традиции можно собираться каждый год, отмечая дату выпускного вечера. По традиции можно делать все что угодно. Все, что повторяется – от похода в баню на новый год до борьбы за светлое будущее.
И в этом смысле, конечно, понятие традиции весьма неопределенное и размытое. Оно стало, по сути, обиходным словечком, которое может означать, что это нечто – нечто, неизвестно что, – что передается, так или иначе воспроизводится по образцу прошлого. В ответственном разговоре его без уточнений и нельзя употреблять, за неимперативной бессодержательностью.
– Китаист Владимир Малявин, говоря о традиции, использует метафору «жука в коробке». Один другому передает коробку и говорит: там – жук. Тот принимает коробку, и принимает жука в ней, не заглядывая внутрь. Он уже знает, что там – жук. И передает ее следующему с теми же словами. И тот тоже уже знает, что там – жук. И передает эту коробку дальше.
– Чаще передают коробочку, не предупреждая, что в ней жук, ибо и сам передающий не знает, что в ней. То, что считают традицией и изучают этнология и этнография, – это то, что передается воспитанием без воспитания, без осознанного воспитательного процесса, без такой культурно-цивилизационной надстройки, как школа. Навыки жизни в самом широком смысле слова, навыки существования в единственно-данной природной и социальной действительности. Обычаи, привычки, социальные навыки – все составляющие элементы традиции – передаются неосознанно или полуосознанно.
В процессе такой передачи рано или поздно возникает запрет и/или поощрение на какие-то действия, слова, отношения, и он начинает повторяться снова и снова. Человека «жизнь учит», а жизнь – имперсональна. Поощряет/запрещает старший – не обязательно в летах, но по положению – он говорит: «будь молодцом» или «так нельзя». Старший не «изобретает» этого побуждения, он и сам, как правило, перенимает знание о том, что хорошо, что плохо в необсуждаемой связи с опытом предыдущих поколений.
Так – через общность мотиваций осознается и некоторая социально-культурная общность. Она может складываться на уровне деревни, квартала; чем дальше развивается социум, тем лучше осознается, что вот та, соседняя деревня – хотя мы с ней живем и не очень мирно, деремся с ними регулярно – но они все рано наши. А вот те, хоть мы с ними выгодно торгуем – чужие. Выгода не роднит.
– Что определяет эту общность?
– Извне это изучают этнологи («чужие»), изнутри – уже свои, родные старики, мудрецы, идеологи. Представления об общности, о ее сути, изменяются со временем. И по-разному воплощаются. На наследие Рима претендовали и итальянцы времен Муссолини, и итальянцы Возрождения, и румыны. При этом итальянские фашисты воспринимали себя наследниками имперского Рима, а итальянцы периода Возрождения естественным для себя образом воспроизводили античную культуру (или свое представление о ней), не затрудняясь мыслями о том, наследство это или нет – они жили в этой традиции (хотя часто и говорили о своем происхождении от Ромула и Рема). Румыны же назвали свою страну именно Румыния (România), а не, скажем, Дакия, хотя итальянские корни из румынского языка к моменту образования королевства Румыния уже выветрились и их пришлось восполнять и набирать заново, взамен славянских. Вот такое разное цивилизационно-культурное преемство.
– Но каким образом она определяется, как осознается?
– Раньше или позже над любым преданием появляется рефлексия. Традиция осознается, подвергается рефлексии, концептуализируется, разумеется, элитой. «База» – говоря политическими словами – не осознает никогда ничего. Тот же Ленин считал, что сам по себе пролетариат не может выработать пролетарскую идеологию (смеется) – и был совершенно прав. Он понимал, что революционная идеология должна быть внесена в рабочее движение. Точно так же в национальное движение вводится национальная идеология. И вводят ее интеллектуалы.
– При этом они же и оспаривают ее – интеллекту свойственен критический подход ко всему, и к авторитетам в том числе.
– В русском языке примерно в одно и то же время родились два понятия. «Думающий человек» как антипод «бездумного» – точный перевод слова intelligent, причастия настоящего времени и восходит к латинскому глаголу intellegere «понимать, разуметь». И самоназвание «интеллигенция», которое интеллигентский обиход предпочел определению «думающие люди» – и думать перестал (смеется). В широких кругах, по крайней мере, мещанских, прижилось уважительное – «он интеллигент». А «думающий»? Ну, мало ли кто думает. На Западе же «интеллигенция» не привилась – там появился intellectuel, интеллектуал. То есть человек, обладающий интеллектом – но не обязательно его употребляющий (смеется), а получающий деньги за то, что у него голова на плечах.
– Действительно, между интеллигентом и интеллектуалом есть разница.
– Естественно, традиция как явление гораздо старше и интеллектуала, и интеллигента. И рекомендация «жить по отеческому преданию» звучала всенепременно в положительном смысле и на Западе, и на Востоке, и в России. Предание – это отеческое, отчизна. Тут богатейшее пространство мыслей, символов и воплощений. С отечеством связаны и династические браки, и войны, и добровольное подчинение царю-батюшке – потому что он батюшка. И так далее. Естественно, осознание традиций складывается, так или иначе, в поле отеческом. Священник, и в католической Европе, и в православном мире – это отец: père, pater и т.д.
– Вы последовательно переводите наш разговор от «светского» нарратива к религиозному…
– Потому, что единственная область, в которой слово «традиция» имеет гораздо более определенный смысл – традиция церковная. Сегодня это богословский термин, который часто и у нас звучит в латинском своем значении – «традиция». Но есть и более понятное и для нас исторически более верное слово – Священное Предание. В судьбе этих двух синонимов открывается биполярность русской традиции. Само слово «традиция» в русский язык проникает очень поздно и в очень размытом состоянии. Тогда как слово «предание» устоялось вполне определенно и однозначно; это обработанный богословски, строгий термин, валидный и в западной, и в восточной церковной истории. При том, что в христианстве предание остается «открытым» концептом.
– Верно ли будет назвать Священное Предание догматом?
– Нет. Догматы – в основе и внутри традиции ли, предания ли. Это изначально незаписанное откровение, передававшееся в виде завета, завещания, передававшееся устно, но достаточно быстро – по отношению к нашей эпохе в целом – зафиксированное и верифицированное. Это типологически свойственно и другим «учениям книги» – исламу, иудаизму. В христианстве в период II—IV вв. проводились водоразделы: – это подлинное, это – не подлинное. Отрицались апокрифы, убирались. Утверждались апостольские постановления как действительный голос апостолов. И церковь узаконивала традицию. Эта модель, по сути, воспроизводится в любом осознании традиции. Моделью сознания традиционного является церковное осознание, утверждение церковного предания.
При этом для латынян, для западной церкви естественная многозначность слова «традиция» привела к тому, что там так же естественно, легче размывались ее границы. Существенно важно, что в набор значений слова traditio, tradere (передача, передавать) – как и во всяком богатом языке, их много – входит и передача по завещанию. То есть передача подзаконная. Традиция попадает под охрану закона.
На Руси так же полагалось: «бить больно» за нарушение предания – не церковного даже предания, а за нарушение приговора, договора. То есть за преданием, за традицией стоит уже власть. Власть моральная, власть религиозная – а это разные вещи, и власть светская.
Самым полным, самым эффективным образом традиция была определена, конечно, в иудаизме, когда создавалась ограда Торы. Когда все экземпляры Писания с другими, неутвержденными текстами были просто уничтожены, чтобы оставалось только одно. Вот это и есть традиция, в основе традиции лежит именно такой ревностный подход.
– Традиция не может защитить себя сама? Ее надо целенаправленно защищать?
– Защита традиции есть элемент традиции. И защита осуществлялась по-разному. В числе прочего – и исторжением смутьяна из общины. Человек, отлученный от церкви в христианской Европе, переставал быть своим, а значит, его не защищало уже ничто. Еврейское гетто откупалось от власти государства, отстаивая возможность судить своего, члена общины, внутри общины, по законам общины. За чистоту традиции приходилось дорого платить.
В исламе традиция защищается через цепочку свидетелей предания: «этот сказал тому-то, а тот сказал тому-то, а тот передал такому-то». Равно как и Талмуд наполнен отсылками к авторитетам. Кровь менее важна – или почти ничего не значит, а интеллектуальный авторитет и религиозный авторитет лежат в основе такой передачи силы из рук в руки.
Символически она осуществляется именно из рук в руки. Священником становятся только через рукоположение, когда епископ передает апостольское предание. Непризнание протестантских церквей церквями основано на том, что они утратили апостольское рукоположение – нет прямого перехода, прямой передачи – то есть традиции, засвидетельствованной в том числе и физически.
– Традиционалист и консерватор – одно и то же? Или, обобщая, традиционализм и консерватизм?
– Консерватизм – не обязательно традиционализм. Традиционализм, видимо, шире. Консерватизм – политическая программа, традиционализм – способ бытия. И там, и там интенции охранительные, конечно, но весь вопрос в том, что надо охранять, что сохранять?
Традиция шире по объему своих реалий. В традиции можно сохранять и костюм, и способы еды и ее приготовления. Консерваторы вчера готовы сохранять самодержавие, а сегодня консерваторы – это ГКЧП. «Консерватор» – скорее, кличка. Традиция безусловна, это такая же данность, такой же рефлекс, как дыхание.
– Общества развиваются, традиции фиксируются, в какой-то момент, приходя в соприкосновение, оказываются настолько разными, что тут либо друг друга убивать, либо как-то договариваться.
– Естественно, традиции оказываются в состоянии столкновения практически неизбежно, хотя всегда есть возможность контролируемого и даже неконтролируемого мирного соприкосновения. Возможен и неконтролируемый, но осознаваемый осмос. Если вспомнить физику 6-го класса, при достаточно долгом соприкосновении золотой пластины со свинцовой плиткой образуется некий слой, где происходит взаимопроникновение, диффузия. Точно так же естественно происходит не только в области обычаев (традиционный костюм, традиционная музыка), но и в области умственного, художественного и религиозного творчества.
Естественно, в меру осознания себя каждая традиция должна себя охранять. Тем более – религиозная, поскольку с религиозным началом связано преставление о сохранении жизни. Единственным безупречным достоянием человека является жизнь, что воплощается в религиозном сознании и учении. Это настолько высокая ценность, что человек перед ней ответственен до самопожертвования. Самопожертвование – высший акт веры и в языческом обществе, и в монотеистических религиях. Сегодня мы видим подобные проявления в шахидах. Европа, теряющая свою идентичность, на такое уже не способна, но способность к самопожертвованию в европейском предании еще живет, надеюсь.
– Насколько столкновение традиций предопределяет жертвенность?
– Поймите, сталкиваются не традиции. Ведь традиции – это нечто нематериальное. Сталкиваются люди, чувствующие и считающие себя носителями традиций. Носителями в самом высоком и сложном смысле слова. Они живут в традиции. В их сознании возникают разные побуждения, мотивации, которые ведут к столкновению – умственному или физическому. Вплоть до желания – или необходимости – уничтожить противника. Или пожертвовать собою.
– То есть при столкновении традиций насилие практически неизбежно?
– Насилие насилию рознь. Есть насилие кулака и револьвера. А есть насилие денег. Самое страшное насилие на сегодняшний день – это не угроза войны, а деньги. Атомная бомба под запретом – вот корейцам руки выламывают, иранцам… А деньги – они сильней. И с ними никто не собирается бороться, а ведь это средство насилия и подчинения, обеспеченное не только золотым запасом Федеральной резервной системы или национального банка. Деньги обеспечиваются и вооруженными силами каждой отдельной страны на ее территории, а в сегодняшней глобальной ситуации – главным и бесконтрольным эмитентом, США.
– В конце концов, они обеспечиваются и традицией. Ведь до сих пор более удобного способа расчета нет.
– Да. Традиция одевается тысячью законов. В основе всех законов лежит традиция.
– А справедлива ли традиция? Или она не обязательно связана со справедливостью?
– Справедливость… Многократно описано в художественной литературе, особенно у Замятина очень хорошо получилось: вот если мы ваших коров съедим, то это правильно, а если вы наших – то это несправедливо. Вы газ поставляете – отвратительно, мы – прекрасно. Дикие люди (смеется). Каннибалы.
Справедливость – она опять-таки будет в традиции. Нельзя убить человека? Нельзя. Но если вы убиваете мой народ, я могу защищаться. Ведь что такое исламский фундаментализм? Это протест против подчинения моей общины, моего народа. Это элита, отборные (по этимологии, но выделенные в лучшие помимо всякого голосования!) протестует против того, чтобы ее народ, который она справедливо считает своим, оказывался субалтерном, подчиненным, добычей для пришельцев или удаленных хозяев
Американцы в свое время вроде сильно негодовали оттого, что американки не могли по Тегерану ходить в мини-юбках. Но извините, тогда лучше не ездить в Тегеран.
– Это можно посчитать классическим случаем столкновения традиций. Открытость против скромности.
– Таких примеров много. Есть основоположный трактат по семиотике, описывающий программу преодоления, разрушения стереотипов культуры японцев в первые годы американской оккупации. Американцы, в частности, целенаправленно насаждали в Японии публичное обнажение женщин, завозили концертные бригады в одних трусиках.
– В принципе, японцев нельзя назвать гимнофобами. Японской культуре не чужды и эротические изображения с частичным обнажением, а это XV век как минимум…
– Вообще, эротика свойственна всем культурам. И японцы ей не чужды – вопрос о конкретной культуре и тех запретах, на которых она строится. В обсуждаемом случае речь шла о сознательной, глубоко эшелонированной, продуманной, оплаченной программе разрушения стереотипов национальной культуры. О «перековке», так сказать.
Та же советская перековка – это же чисто западнический опыт. Ленин с Троцким были людьми западнической ориентации. Почитайте их бытовые письма, мемуары – нормальная жизнь там, в Европе. И они переносили сюда такое наследие Великой французской революции, как отделение церкви от государства, и одновременно разложение семьи, и аборт по первому желанию, и снятие табу на гомосексуализм… и так далее. За это боролась и русская интеллигенция, и вся западная культура на протяжении нескольких столетий, но тут все это враз оказалось узаконенным.
– Прогресс вынуждает традицию меняться. При этом изменения могут оказаться для нее фатальными…
– Традиции, безусловно, меняются. Они меняются по самым разным причинам – вследствие самых, может быть, незаметных, тривиальных изменений климата. Так, изменения в одежде, безусловно, связаны с изменением климата. На изображениях костюма позднего Средневековья и Ренессанса можно заметить множество ремешков, застежек, подвязывающих какие-то дополнительные утепляющие элементы одежды. Они начинают обыгрываться эстетически. Оказывает свое влияние на одежду и развитие представлений о гигиене.
То есть костюм эволюционирует. Но к лучшему ли это? Прогресс – движение вперед. Но качество этого «переда», оно ведь не определено. И движется общество вместе с каждым из нас «к светлому будущему», и прогресс давит традицию, иногда откровенно душит.
– Мы не можем точно знать, каким будет будущее, можем лишь предполагать.
– Вообще-то, у нас нет и опыта того, что нам было дано в начале, до нас, и мы свою первобытность только конституируем, устанавливаем – в силу, разумеется, и определенной традиции. Необходимо понимать, что материализм – самая безответственная, неподтверждаемая в рамках собственной системы верификации онтологическая система. Ни один человек не может сказать о себе: я умер, я испытал смерть. Те, кто испытывал какие-то будто бы предсмертные видения, ощущения, а потом оживали, они ведь не знают, что такое свершившаяся смерть. Этого материалисту не дано. А православному – дано.
Поэтому, когда прогрессу приписывается безусловный положительный вектор, когда его безусловно называют движением в лучшую сторону, всегда находится здравомыслящий человек, который говорит: ребята, не заблуждайтесь, вы блудите. Ведь критерии, на основании которых оправдывается движения именно в эту сторону, вовсе не обязательно суть проявления добра. Ну, скажем, перестали людей пытать в судебном процессе – а, может, Ли Харви Освальда и стоило на дыбу поднять – тогда бы мы больше узнали о гибели Джона Кеннеди.
Само по себе развитие человечества – европейского человечества – а в связи с ним и всего остального, это ведь создание общества сплошного удовольствия. Потребления и удовольствия. А не справедливо ли фундаменталисты исламские против этого возражают!? У христианских фундаменталистов в этом смысле кишка тонка – хотя они много об этом пишут – и католики, и православные…
– Но на Западе тоже уже пришли к мысли о том, что идея общества потребления – опасная идея.
– И давно пришли – еще когда потреблять было особо нечего. Человеческая мысль работать не разучилась: развивается процесс, идет и его осмысление, и его критика. Но в целом прогресс вполне способен погасить, уничтожить важнейшие аспекты традиции, а то и всю добрую традицию целиком.
И давно осознано, что прогресс означает полудобровольную ликвидацию традиционного общества, чем далее от европейского центра, тем менее и менее автохтонно мотивированную. Можно ли этот румб переменить? Скорее всего, нельзя, потому что наш рулевой гнил, интеллигенция, Капитан «с ликом Каина» со товарищи… Самая страшная революция, которую я знаю – это революция 1968 года. Революция 1917 года – всего лишь погубила мою страну, местная проба сил, абортированный эксперимент. Революция 1968 года погубила европейскую цивилизацию. Отдадим себе отчет в том, что в глубине своей, в истинном содержании Париж и Прага, и наши палестины были едины в своем порыве, хотя и бросились вперед в разных политических условиях и под разными «слоганами».
Кажется, я уже тогда чувствовал, смутно, эту общность. Помню, в частности, без всякого сопереживания читал П.П. Пазолини, острейше-талантливого совопросника века сего, страдавшего от того, что буржуазия в последний раз переварила своих детей. Пазолини был прав и неправ – новое поколение, «левейшее», добилось осуществления вековых мечтаний человечества, слишком медленно осуществлявшихся «буржуазией». В социальной организации установились все нормы, провозглашенные у нас в 1917, но без излишней и публичной крови и под веками отлаженной демократической формой. Общность теперь налицо: торжествовали в 1990-е в Париже, Берлине, Вашингтоне, Москве и Ленинграде и инде ровесники и единоверцы. Навстречу снова «Молодой», но уже не «Германии» или «Польше», а «Молодой Европе» шла «молодость мира». Навстречу «вызовам времени» шел еще прежде, вовремя Второй Ватикансуий собор…
– Тема гибели, разложения европейской цивилизации не нова. Сегодня ей пророчат гибель новые Шпенглеры, новые Ницше – но где тот Шпенглер, и где Европа? Живет и по-прежнему неплохо себя чувствует…
– Замечательно себя чувствует, в раю – сыта без особого пота, в удовольствиях тела, в свободе выбора удовольствия, глядишь, скоро и человекоядство реабилитируют, а там и превознесут. Только это не Европа Традиции, от нее отказались и не передадут детям европейцы 68-го года. Я это имею ввиду. Они и не отцы уже, а «родители №», и имеющее от них остаться наследие не будет числить в себе Святых камней».
Любимый мой пример погашения традиции – это гибель целой культуры Юга Франции, окситанской культуры, которая породила всю европейскую поэзию. Пушкин знал, что поэзия родилась под знойным небом Южной Франции. Писать стихи научили итальянцев окситанцы, трубадуры, слагавшие свои песни в Провансе, в Лангедоке на языке д’ок, «langue d’oc», так назвал их язык по утвердительной частице, их «да», Данте – всего лишь внук, если не правнук провансальских трубадуров. Они научили писать стихи немцев, а ведь это совсем разные языки, португальцев, всех, в конечном счете – по длинной цепи передачи, неразрывной цепи традиции – и нас, русских. Часто кандалы благословенны!
Их культура погибла, вымерла, – она ли вместе с ними, или они вместе с нею? Человек и его культура, его предание – одно, индивидуум – манифестации традиции. Но ответ держит сам, один. Это апория культуры.
– Гибель окситанской культуры на «совести» крестового похода против альбигойской ереси, то есть действия целенаправленного, политического…
— Да, тут-то их, конечно, «поправили». Впрочем, по делу. А зачахла великая поэзия все ж не потому, что ересь извели. В XIII-XIV вв. окситанская культура локализуется, теряет внутренний импульс, хиреет, а в это время итальянцы рванули уже далеко вперед и вверх, на подходе уже были испанцы – и ни тем, ни другим ереси в качестве движущей силы не требовалось… Значит, не в ереси сила.
Французские короли запрещают судопроизводство на местном языке и армия перешла на французский язык – и на этом все кончилось, что мы и наблюдаем сегодня на Украине и в Эстонии. В середине XX века окситанский язык получил госпризнание и господдержку, да поздно, возродить особый народ, отличный от французов, было невозможно. Как безрезультатно написание названий улиц в Великобритании на двух языках, английском и исчезнувших кельтов. Истребление национального языка, как показывает европейская история, влечет за собою исчезновение племени, народа, есть по природе своей геноцид. Где прусы? Борьба с национальным языком – геноцид. Об этом знают европейские элиты, интеллектуалы в их числе, но в зависимости от своих бессовестных интересов, делают вид, что не замечают геноцида то там, то тут…
– Аналогично объединение многих немецких княжеств в одно немецкое государство наверняка похоронило множество локальных культур, локальных традиций.
– Ну да. Несравненно ярче эти локальные культуры цвели в Италии. Их похоронило не объединение страны, а властное господство в элитных умах представлений об унитарном государстве и унитарной культуре, насаждение единой школы с ее lingua di scuola, пусть это и был язык, lingua di Dante. До XVII века прекрасно и плодотворно жили местные культуры, да еще и в XIX веке один из лучших итальянских поэтов того времени, Джузеппе Джоакино Белли писал на romagnola – римском диалекте. Многие итальянские области имели свои прекрасно разработанный литературный язык. Но унификация, глобализация, так сказать, или национализация культуры привела к тому, что погибла полицентричность итальянской культуры.
В Италии в ХХ веке несколько раз возникало движение за возрождение местных культур. Последним из тех, кого я знал, был сценарист «Амаркорда» Тонино Гуэрра. Он ратовал за то, чтобы дома раскрашивали так, как их раньше раскрашивали, чтобы ставни были пестренькими – к этому сейчас вроде бы начали возвращаться, но – не так.
Но это – о локальных, как вы сказали, культурах, о том, что в именно в традиции, в национальном предании осознано как принадлежащее некоему единству высшего порядка. Страшнее, когда речь идет не о местных вариантах общего. Языковая самоидентификация – антропологическая характеристика личности, и отказать человеку в самореализации в своем природном, социально-природном, прирожденном качестве – акт геноцида. Что тогда сказать о «неизбежной эстонизации русской школы», о которой я читал у высокого эстонского чиновника, главного уполномоченного по этой отрасли государственной жизни? Запихнуть человека в прокрустово ложе локального языка г. Нарвы значит лишить его полноправия человеческого достоинства. Какие уж тут права человека и гражданина, куда смотрит «Международная Амнистия» и администрация и Конгресс США?! Сексуальную идентичность власть защищает уже с оружием в руках, а языковая идентичность не вошла в список прав человека.
Но есть случаи и еще проще и страшнее. На Украине и в Латвии процент русских и считающих русский своим родным, природным языком так велик, что его локальным не назовешь, тем паче что носители его повсеместны. В конце концов, памятник снести – хоть советскому солдату, хоть генералу Ли – «всего лишь» унизить живых и мертвых, но лишение трети, половины своего населения, народа своей страны права и возможности воспроизведения себя в своей языковой культуре означает принудительную кастрацию. Так вот и некоторые антисемиты планировали решить «еврейский вопрос» – стерилизацией.
Традиции действительно умирают, одни – другие нарождаются, но это речь о всяких традициях, безотчетных. Истинное Предание, прежде всего именно Церковное, живо до последнего исповедника (реально история может завершиться и ранее, не наше дело знать сроки). Я иногда живу в крестьянском доме в Костромской губернии; это простой, хороший дом, на юге так не жили. Там такой подклет, где я могу встать почти в полный рост. Просторные горницы во всех домах, замечательное хозяйство. Берешь то, что осталось от хозяев – скажем, мешалку оструганную, она выделана, как скульптура. И это не специально жил какой-то гений тут жил, у многих рука так ходила, по традиции. Там же остались какие-то книги… Беру – томик Тютчева, пометки на полях. Стихи – и пометки на полях. И что? Была эта культура – и ее больше нет.
Никакой разговор об истории России невозможен без выяснения четких соответствий в любых событиях и процессах нашего прошлого и прошлого других концов христианского мира. Нашим «деревенщикам» без труда можно указать соответствия во всех, думаю, европейских литературах. Метаморфоза ли та Европа, которую мы видим, Европы отчей? Или перед нами бастард, ублюдок?
Наши вишисты, сегодняшние «западники» стремятся в сегодняшнюю Европу, американскую. Редко это формулируют, да почти никогда, но вычитать из их слов и поведения совсем нетрудно, что для полного торжества им необходимым и неизбежным представляется перевоспитание, переформирование русского народа и всей сложно устроенной цивилизации, сложившейся вокруг него. Им необходимо повторить большевистский опыт управляемой антропологической революции 20-30-х годов прошлого, социалистического века. Осуществлению этой задачи мешает «кровавый режим», ельцинский способствовал, потому тогдашняя кровь осталась незамечаемой. А то и приветствовалась.
Для разумного выживания нужна, скажем, программа. Безумны призывы выработать национальную программу. В худшем случае она окажется изоморфной многочисленным опытам европейской евгеники, выведения промышленными методами истинных – арийцев, украинцев, строителей коммунизма и т.п. В любом случае истинность обеспечивается только согласием нынешних поколений со поколениями отцов, программа должна жить от отеческого предания.
Будущее туманно и тревожно. Выдержать – значит суметь возобновлять и терпеть элиту национального долга. Хотелось бы смочь!
Великий опыт семьи Лыковых, ушедших от соблазнов века в Саянскую тайгу, повторить не удастся даже микрогруппам, куда там целому народу.
Беседовал Александр Соловьев