Двадцать лет, прошедшие со времени избрания Михаила Горбачёва на высший пост в советской партийной иерархии, стали временем не только глубочайших перемен в России и в мире, но и острейших дискуссий научного и политического характера. Эти дискуссии обречены на то, чтобы всегда иметь налет сослагательности. Что бы ни обсуждали исследователи, явно или скрытно прозвучит вопрос: а могло ли произойти иначе? В какой мере тот вектор развития страны был предопределен объективными факторами, а в какой стал результатом случайного стечения обстоятельств, ошибок или прозрений отдельных лидеров?
Подобные вопросы возникают при анализе великих событий прошлого, будь то войны или революции. Не составляет исключения и перестройка вместе с последовавшим за ней крахом коммунизма. Ведь по всемирно-историческому значению перестройка не уступает Октябрьской революции и созданию мировой коммунистической системы после Второй мировой войны.
Экономическая политика советской власти изначально была подвержена циклическим колебаниям, получившим название «социалистический инвестиционный цикл». Для данных циклов характерны следующие фазы: реализация инвестиционной программы – замедление темпов роста – либерализационные меры – ускорение темпов роста – усиление макроэкономической несбалансированности – отказ от либеральных реформ и новая инвестиционная программа. Именно так события развивались начиная с 1920-х годов и вплоть до середины 1980-х. В этой логике либерализационные мероприятия перестройки не представляли собой чего-то необычного. Новым оказалось то, что не произошло ужесточения режима, а либерализация стала развиваться вширь и вглубь.
Существует два основных фактора, определивших характер перестроечных процессов и особенности дальнейшего развития в направлении краха коммунистической системы. Во-первых, СССР столкнулся с кризисом индустриального общества, что потребовало включить в повестку дня задачи, связанные с системными изменениями, и тем самым предрешило содержание и направленность преобразований. Во-вторых, трансформация приняла форму полномасштабной революции, сопоставимой по своему характеру и глубине перемен с великими революциями прошлого.
Советскую социально-экономическую модель породила индустриальная эпоха. Эта система, в основном сформировавшаяся на рубеже XIX–XX веков, характеризовалась доминированием крупных промышленных форм, проникавших во все сферы общественной и личной жизни; преобладанием технологий массового производства, обеспечивавших свою эффективность за счет стандартизации и масштабности; усилением монополистических тенденций на всех уровнях. Присущая данной системе экономическая политика предполагала государственное господство в хозяйственных процессах, расширение роли (и доли) госсобственности, ослабление конкурентных начал в экономике вообще и стремление к ограничению (преодолению) внешней конкуренции в частности. Индустриальная эпоха позволила решить ряд важных производственных и социальных задач, обеспечила заметное повышение производительности труда, урбанизацию и удовлетворение базовых потребностей всего населения соответствующих стран. Советский Союз, продолжив движение дореволюционной России по пути к созданию индустриального общества, достиг своей цели на рубеже 1950–60-х годов.
Примерно тогда же в развитых индустриальных странах обозначился поворот к экономике, основанной на информационных технологиях и всем том, что позже стали называть высокими технологиями. Формирование новой экономики сопровождалось ослаблением монополистических тенденций, активизацией конкуренции, снижением роли крупных хозяйственных форм, повышением гибкости производственных процессов и индивидуализацией производственно-технологических решений. Глобализация – один из важнейших компонентов новой экономики. Соответствующая экономическая политика характеризовалась снижением роли государства в хозяйственной жизни, либерализацией хозяйственной и внешнеэкономической деятельности.
Запад столкнулся с кризисом индустриального общества в начале 1970-х, и на протяжении всего этого десятилетия большинство наиболее развитых стран переживали глубокий экономический кризис – так называемую стагфляцию. И лишь позднее выяснилось, что на самом деле имел место не очередной этап «общего кризиса капитализма», а адаптация социально-экономических систем к новому этапу технологического развития (или, если использовать марксистскую терминологию, к новому уровню развития производительных сил).
Перед СССР встали аналогичные, по своей сути, проблемы. Однако жесткость политической и экономической системы не позволила ей перестроиться, с тем чтобы своевременно ответить на новые вызовы. Советская экономика отличалась крайней невосприимчивостью к нововведениям. Действовавшие стимулы ориентировали предприятия и работников на выполнение и перевыполнение плановых заданий, а обновление производства и научно-технические новшества могли этому только помешать.
В результате в то время, когда Запад через кризис приспосабливался к новым реалиям, Советский Союз шел к тяжелому системному кризису, демонстрируя устойчивые, хотя и невысокие, темпы роста. Традиционные отрасли продолжали доминировать в ущерб развитию передовых направлений научно-технического прогресса, связанных с компьютеризацией, усовершенствованием средств связи и т. п. (По некоторым оценкам, отставание СССР в области телекоммуникаций составляло 25–30 лет.) Оборонный сектор по-прежнему играл в экономике центральную роль. Темпы роста неуклонно снижались, и в 1980-е годы усугублявшееся отставание от Запада стало уже очевидным для всех. «…Коммунизм оказался не способным… [на] состязание с капитализмом, с рыночной системой, когда эта система стала уходить от рудников и угольных шахт и двинулась в постмодернизационную эру… Постмодернизационный вызов стал чрезвычайно эффективным в ускорении разрушения коммунизма и триумфа антикоммунистической революции…» – писал известный британский социолог Зигмунт Бауман.
Характер кризиса обусловил и общий принцип мероприятий по реформированию, а именно либерализацию всех сторон общественной жизни. Если индустриальная эпоха (в том числе политика догоняющей индустриализации) предполагала активизацию мобилизационных усилий, концентрацию ресурсов в секторах – «точках роста», то постиндустриальная эпоха требует наращивания творческого, адаптационного потенциала людей и фирм, всемерного развития человеческого капитала.
Особенности постиндустриальной эпохи обуславливают, в частности, нынешний, длящийся уже примерно четверть века расцвет либерализма, который Фрэнсис Фукуяма романтически провозгласил «концом истории». Дело здесь, разумеется, не в абсолютном и окончательном торжестве либерализма. Просто сегодняшний уровень развития производительных сил и соответствующие ему модели успешных модернизаций или опираются в основном на либеральную экономическую политику (как в развитых странах Запада), или развиваются в сторону либерализации (как в быстро растущих странах Юго-Восточной Азии). Они же объясняют, почему все правительства позднего СССР и России, безотносительно к их партийной принадлежности, проводили более или менее последовательный курс на либерализацию. Особенно показательным в этом отношении было правительство Евгения Примакова (сентябрь 1998 г. – май 1999 г.), которое, несмотря на жесткую антилиберальную риторику, выполняло рекомендации либеральных экономистов, причем в некоторых случаях, например в области бюджетной и денежной политики, даже более решительно, чем находившиеся ранее у власти правые либералы.
Другая важная особенность российской трансформации состоит в том, что она приняла форму полномасштабной революции. Тезис о революции (точнее, о ее завершении) прозвучал даже в Послании президента страны Федеральному собранию РФ в 2001 году.
Между тем многие специалисты отказываются признавать революционный характер посткоммунистической трансформации. Они указывают на невовлеченность в преобразования широких народных масс, на отсутствие масштабного насилия, а также на то, что не произошло значительного обновления элиты. На самом деле значение всех названных «признаков» не следует преувеличивать. Представление о революции как о движении широких народных масс формируется лишь спустя некоторое время после имевших место событий (и под воздействием постреволюционных произведений искусства). Насилие также не является универсальной характеристикой революции. Да и коренное обновление элиты происходит, как правило, не сразу.
В любом случае смену элиты (что, несомненно, характеризует ход революции) не следует смешивать с немедленным удалением (на эшафот, в эмиграцию или в отставку) деятелей старого режима. Даже после такого радикального потрясения, как Великая французская революция, многие представители прежней верхушки еще оставались на своих постах, и понадобилось время, чтобы к власти пришли совсем другие люди. Кроме того, новая элита – это те, кто готов действовать в новых обстоятельствах и играть по новым правилам, а среди таковых вполне могут оказаться и выходцы из старой элиты. Разве принадлежность Виктора Черномырдина к высшему слою советской номенклатуры (министр и член ЦК КПСС) способна приуменьшить его роль в становлении новейшего российского капитализма? Так что поступки важнее происхождения…
То же самое относится и к трансформации собственности. Смена собственника, безусловно, важна, но ее не следует абсолютизировать. Гораздо существеннее не физическая смена собственника, а изменение формы собственности. Так, в ходе Английской буржуазной революции середины XVII столетия не отмечалось радикальных перемен в сфере собственности, а бЧльшая часть аристократии сохранилась (поэтому в марксистской историографии эта революция считалась «непоследовательной»). Лидеры революции имели обыкновение перепродавать конфискованные земельные владения тем же роялистам, у которых они были изъяты. После перепродажи это была уже другая собственность – частная, освобожденная от старинных феодальных обязательств, фундамент будущего капиталистического общества и фактор формирования необходимой социальной базы для грядущего экономического роста. Аналогичные процессы происходили и в современной России.
В наиболее общем виде революция – это системные преобразования, которые радикально изменяют общественное устройство страны и осуществляются в условиях слабого государства. Последнее является важнейшим конституирующим элементом революции, предопределяющим многие ее характерные черты, коренным образом отличающим ее от других преобразований и приводящим к системным сдвигам. Слабость государства проявляется в кризисе государственной власти, когда налицо острое противостояние элит (и вообще основных групп интересов), отсутствие между ними консенсуса по базовым ценностям и ключевым вопросам дальнейшего развития страны. В экономическом плане слабость власти – это прежде всего финансовый кризис, неспособность государства собирать налоги и поддерживать баланс между расходами и доходами.
Именно слабость государственной власти обуславливает стихийный характер протекания экономических и социальных процессов. Общественное развитие становится результатом действия различных сил, «тянущих» государство в самые разные стороны. Отсюда – стихийность, но отсюда же и закономерности, предопределяющие схожесть полномасштабных революций. (Можно выделить несколько этапов таких революций: (1) «Розовый период», или «медовый месяц», когда все силы объединяются во имя свержения старого строя, а у власти находится чрезвычайно популярное «правительство умеренных»; (2) поляризация, размежевание социально-политических сил, что приводит к краху «правительства умеренных»; (3) радикальный период – окончательный и бесповоротный слом старой системы; (4) «термидор», закладывающий основы укрепления государства и стабилизации системы; (5) посттермидорианская стабилизация и выход из революции.)
Если рассматривать российскую трансформацию как революцию, нетрудно увидеть: перестройка – это «розовый период» революции. Характерной чертой этой фазы становится вера революционных вождей, с одной стороны, в сплоченность не приемлющего старый режим общества, а с другой – в собственную широкую популярность. Эти представления, порой весьма иллюзорные, довольно-таки существенно и в течение длительного времени сказываются на экономической политике.
Во-первых, лидерам раннего революционного правительства, провозглашающего курс на преодоление «наследия прошлого», кажется, что единство нации и собственная популярность наделяют их особой силой, позволяющей принимать экзотические решения, не вписывающиеся в экономическую логику и невыполнимые в «нормальных» условиях. Во времена перестройки решениями такого рода стали:
- антиалкогольная кампания (отказ от значительной части бюджетных доходов в момент, когда советский бюджет понес серьезные потери из-за падения цен на нефть, привел к тяжелым последствиям);
- одновременное проведение политики ускорения и перестройки (ускорение означало повышение доли накопления в национальном доходе и сокращение расходов на потребление; перестройка же предполагала расширение экономической самостоятельности хозяйственных агентов, не имевших никаких стимулов к расширению инвестиционной активности)
- сочетание стимулирования предпринимательской активности (кооперативы, индивидуальная трудовая деятельность) и борьбы с нетрудовыми доходами.
Во-вторых, раннее революционное правительство не способно к выработке и принятию последовательной программы социально-экономических реформ. Оно еще тесно связано (идеологически и политически) со старой системой, и его деятельность ориентирована на реализацию выработанных в прошлом (в совершенно иных политических условиях), но, увы, отнюдь не осуществленных программ. Так, в период перестройки всерьез обсуждались возможности «второго издания» реформы 1965 года, а то и НЭПа. Речь шла о выборе между моделями социалистической рыночной экономики, хотя вызовы постиндустриальной эпохи уже требовали выйти далеко за рамки «научно обоснованных», но старомодных схем.
Претворяя в жизнь популярную в 1960-е годы идею о самостоятельности предприятий в условиях государственной собственности, советское правительство пошло на резкое расширение самостоятельности директоров. На деле эти решения дали двойной негативный эффект: с одной стороны, они способствовали углублению экономического кризиса, поскольку расширение самостоятельности предприятий не подкреплялось усилением их ответственности за результаты работы; с другой – укрепляли положение директора как фактического (но не формального) владельца предприятия, обостряя стандартную для всякой революции проблему приведения в соответствие формального и реального статуса собственника.
В-третьих, сознание собственной популярности фактически исключает принятие правительством назревших, но непопулярных решений. Потребность властей в популистских мерах постоянно возрастает – особенно по мере утраты ими доверия со стороны населения. В годы перестройки правительство Николая Рыжкова так и не отважилось пойти на балансирование (повышение) цен, и эта нерешительность вызвала быстрое усиление товарного дефицита и развал потребительского рынка. Однако «робость» по отношению к розничным ценам не мешала неуклонно повышать цены оптовые, что обеспечивало поддержку соответствующих групп интересов. К этому можно добавить налоговый и бюджетный популизм – готовность ради приобретения политической поддержки снижать налоги и увеличивать бюджетные расходы в условиях тяжелого бюджетного кризиса.
Эти три обстоятельства вкупе стали важнейшей причиной углубления экономического кризиса в годы перестройки. Приведенные здесь умозаключения не следует рассматривать как обвинения в адрес «раннего революционного правительства» Горбачёва – Рыжкова. Начавшаяся революционная трансформация имела свою внутреннюю логику. Действия «перестроечных» властей вполне соответствовали логике действий их великих предшественников, будь то во Франции 1789 года или в России в марте-сентябре 1917-го. Но факт остается фактом: экономическая политика во второй половине 1980-х годов привела к тяжелому финансовому кризису, из которого Россия выходила на протяжении всего следующего десятилетия.
Вернемся к вопросу: существовали ли реальные альтернативы политике перестройки, и если да, то какие?
В начале 1980-х никто не ожидал от советского руководства осуществления сколько-нибудь глубоких преобразований. Речь шла, как максимум, о продолжении попыток «совершенствования хозяйственного механизма» в духе соответствующих «реформаторских» документов 1979 и 1983 годов. Первые шаги Горбачёва интерпретировались многими как либерализация на словах, причем временная. Ожидания связывались с проведением традиционных мероприятий мобилизационного характера: ужесточением дисциплины и административного контроля за качеством выпускаемой продукции (введение «госприемки»), увеличением доли накопления в национальном доходе, инвестиционным маневром в пользу машиностроения. Словом, серьезные рыночные реформы представлялись маловероятными, и, по мнению многих советологов, совершенствование экономических отношений должно было пойти по пути упорядочивания централизованного контроля, сокращения количества бюрократических звеньев и приближения к механизму централизованного управления, характерного для Германской Демократической Республики.
Вместе с тем советская система представлялась исключительно прочной. СССР (как, впрочем, и США) считался страной, где возможны только постепенные, эволюционные трансформации. Однако к середине 80-х годов прошлого века возникли два обстоятельства, не позволявшие режиму пребывать в застое: структурные изменения, произошедшие в советской экономике в результате нефтяного изобилия 1970-х, и вступление Запада в фазу постиндустриального роста.
Начало перестройки нередко связывают с падением цен на нефть в 1984 году и углублением бюджетных трудностей. Именно в 1985-м, впервые за несколько десятилетий, в СССР обозначился и стал нарастать бюджетный дефицит. Если в 1980 году бюджет имел профицит в 1,3 % ВВП, то в 1985-м – дефицит в 1,7 % (а в 1990-м дефицит составлял уже 10,3 % ВВП).
Истинная же причина кризиса состояла в резком скачке цен на нефть в 1973 году и последовавшем нефтяном буме. На протяжении примерно десятилетия цены на нефть оставались исключительно высокими, а в самом начале 1980-х достигли рекордного на сегодняшний день уровня (порядка 90 долларов за баррель по современному курсу). Сложившаяся на нефтяном рынке ситуация двояко повлияла на состояние советской экономики.
С одной стороны, руководство страны получило возможность отказаться от проведения экономических реформ, к которым их подталкивали кризисные явления 1960-х годов. Введение в строй западносибирских месторождений в совокупности с нефтяным шоком 1973-го обеспечили СССР потоком «дешевых» нефтедолларов, что позволило снять с повестки дня проблему реформирования экономики.
С другой стороны, «позитивный шок» 1973 года привел к росту зависимости советской системы от экспорта энергоресурсов. Фактически советские руководители использовали нефтедоллары для своеобразного структурного маневра, в ходе которого нефть и газ обменивались на продовольствие и на оборудование для расширения добычи нефти и газа. В результате доля нефти и газа в экспорте стабильно росла, а доля машин и оборудования снижалась. Такие факторы, как эффективность производства, производительность труда, обновление и инновации, также отходили на задний план. Инновационная активность не выходила за рамки военно-промышленного комплекса, но усиление зависимости от внешнеэкономических условий сказывалось и на состоянии оборонного потенциала.
В структуре советской экономики произошла очень важная перемена. Став более открытой, экономика оказалась зависимой не только от наличия дешевых ресурсов, но и от внешнеэкономической конъюнктуры. К концу 1970-х выяснилось, что без масштабного импорта продовольствия СССР уже не способен обеспечивать стабильность своего существования. Изменились и психологические ориентиры советских людей: все больше граждан получали возможность выезжать за границу и знакомиться с образом жизни в западных демократиях. А обширный импорт предметов потребления способствовал дискредитации советской экономики в глазах широких слоев населения. Фактически через потребительский импорт люди осваивали элементы западного образа жизни.
Падение цен на энергоресурсы неизбежно вело к тяжелому кризису – не только экономическому, но и политическому, включая невозможность поддержания военно-стратегического паритета. А без этого коммунизм, существовавший в условиях противостояния двух систем, был обречен. Чтобы не допустить такого развития событий, власть теоретически могла бы пойти на «закручивание гаек» – решительное снижение уровня жизни и возврат к старой мобилизационной модели социально-экономического развития. Однако у этого варианта было два серьезных препятствия.
Во-первых, манипулировать общественным сознанием становилось все труднее. Ни элита, ни образованное, урбанизированное население не смирились бы с жесткими мерами: в отличие от ситуации в первой половине ХХ века, подавляющему большинству населения страны было что терять (как в материальном, так и в культурном отношении). Имея одного-двух детей в семье, городское население не пожелало бы поддерживать военно-политические авантюры, необходимые для сохранения статуса сверхдержавы.
Во-вторых, в силу закрытости советской экономики и игнорирования ею процессов глобализации мобилизационная модель не могла бы обеспечить развитие современных производительных сил на уровне, позволявшем поддерживать военно-стратегический потенциал и сохранять статус сверхдержавы.
Таким образом, к середине 1980-х годов уже не оставалось возможности сохранить советскую систему в неизменном виде.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО-КИТАЙСКИ: ЗА И ПРОТИВ
Среди российских политиков и исследователей получил популярность тезис о том, что политические реформы в СССР явились ошибкой, а подходить к реформированию следовало бы с учетом китайского опыта.
Для китайской трансформации, начатой в 1978-м, характерно доминирование экономических реформ над политическими. Благодаря сохранению однопартийной системы и идеологической жесткости режима власть остается в руках старой номенклатуры. Экономические преобразования проводятся постепенно и под ее контролем, а любая политическая активность отдельных представителей гражданского общества подавляется.
Между тем политическая невозможность использования китайского опыта в посткоммунистической России очевидна. Если Китай опирался на тоталитарный режим, способный через партийную вертикаль и органы госбезопасности осуществлять всеобъемлющий контроль над ситуацией в стране, то в России либеральные реформы были начаты на рубеже 1991–92 годов в отсутствие не то что сильного государства, а государства, как такового (СССР уже ушел в историю).
Социально-экономическая структура китайского общества близка к советской, однако не 1980-х, а времен НЭПа. Китайская трансформация является не более чем свидетельством в пользу принципиальной возможности «мягкой» индустриализации нэповской России. Именно такой, «мягкий», подход лег в основу экономической программы, предложенной Николаем Бухариным и предполагавшей движение по пути постепенной индустриализации, через развитие крестьянских хозяйств, через предприятия легкой и пищевой промышленности. Эта модель индустриализации, а также выдвинутый Бухариным лозунг «Обогащайтесь!» были заклеймены Сталиным как «правый уклон», а их приверженцы поплатились жизнью (см. табл. 1).
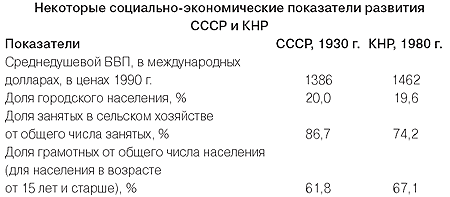
Иными словами, модель ускоренного экономического развития при сохранении политического авторитаризма может успешно сработать только при определенных – и взаимосвязанных – условиях. Это, во-первых, невысокий уровень экономического развития и соответственно наличие значительного количества не вовлеченных в эффективное производство трудовых ресурсов (аграрное перенаселение). Во-вторых, низкий уровень социального развития, когда государство не берет на себя значительных социальных обязательств. (Так, если в КНР социальным страхованием и пенсионным обеспечением охвачено не более 20 % населения, то в СССР оно распространялось на всех граждан.) Наконец, в-третьих, низкий культурно-образовательный уровень, когда потребность в демократизации еще не является одной из ключевых для значительной массы населения.
Все эти факторы налицо в КНР, и все они отсутствовали в Советском Союзе 1980-х годов. Так что тем, кто рекомендует России учиться у Китая, надо стремиться к формированию у нас в стране соответствующих условий, а именно: (1) правительству следует отказаться от социальных обязательств и перестать платить большую часть пенсий и социальных пособий, сократить предоставление бесплатных услуг в области здравоохранения и образования; (2) уровень бюджетной нагрузки в ВВП должен быть снижен с нынешних 36–40 % примерно до 20–25 %.
Хорошая историческая память и зависимость от социальных расходов государства также являются факторами, которые нельзя не принимать во внимание при выработке и реализации программы реформ.
Уже достаточно зрелое и образованное, советское общество 1980-х нуждалось в доказательствах того, что реформаторские намерения властей – не пустая риторика и не провокация спецслужб. Лишь готовность руководства к политическим изменениям могла подтолкнуть экономические реформы. Резкое снижение бюджетной нагрузки на экономику, аналогичное тому, что произошло в КНР, также было бы в России невозможным и нежелательным. (Автор этих строк как-то спросил у Михаила Горбачёва, почему он и его коллеги не пытались пойти по китайскому пути. Экс-президент Советского Союза ответил, что все они осознавали принципиальные различия ситуаций в СССР и КНР).
Наконец, важнейшую роль играет фактор стабильности. Китаю потребовалось тринадцать лет реформ и политической стабильности, чтобы вызвать доверие инвесторов и занять лидирующие позиции в мире по притоку иностранных инвестиций.
ОПЫТ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Трансформационные процессы в России и в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), включая бывшие республики советской Прибалтики, существенно отличаются друг от друга. Хотя сначала мы находились примерно в одном исходном пункте – в ситуации постсоветского кризиса и хотя в обоих случаях целью являлось построение современной рыночной демократии, в дальнейшем – на этапе посткоммунистических реформ – в характере, темпе и механизмах преобразований наметились серьезные различия.
И в России, и в странах ЦВЕ речь шла о либерализации (цен и внешнеэкономической деятельности) и макроэкономической стабилизации, о приватизации, о стимулировании нового бизнеса. Но большинство государств ЦВЕ решили задачи выхода из коммунизма раньше и с меньшими издержками, чем Россия. Здесь, как правило, быстрее удавалось достичь стабилизации, упорядочить отношения собственности и прийти к экономическому росту (см. табл. 2).
По моему мнению, такое расхождение в динамике роста обусловлено прежде всего политической сферой. Для стран Центральной и Восточной Европы крах Советского Союза фактически означал освобождение от системы, навязанной извне с помощью военной силы. СССР, напротив, избавлялся от системы, возникшей в результате его собственного развития. Это предопределило революционный характер трансформации во втором случае и эволюционный – в первом.

Источник: Гайдар Е. Долгое время: Россия в мире. М.: Дело, 2005. С. 381.
Важным дополнительным фактором предсказуемости курса стран Центральной и Восточной Европы явились их изначально продекларированное желание вступить в ЕС и НАТО, а также готовность обоих союзов к расширению. «Кандидатский стаж», необходимый для вхождения в эти организации, не только четко и недвусмысленно определял задачи в сфере институционального переустройства, но и обеспечивал реформы своеобразным внешним контролем со стороны более развитых стран-членов. (Признавая некоторую неполиткорректность сравнения, нельзя на заметить, что этот контроль по своей эффективности сопоставим с действиями оккупационных властей в Западной Германии и Японии по обеспечению там политической и экономической стабильности в период проведения послевоенных реформ. Результатом стал бурный рост побежденных стран, позволивший говорить об «экономических чудесах».) Это стало серьезным барьером на пути возможных популистских шагов и существенно поспособствовало преодолению посткоммунистического кризиса, хотя продвижение в направлении ЕС, принятие в странах ЦВЕ тяжеловесного, требующего больших бюджетных расходов европейского законодательства в дальнейшем затормозили там экономический рост.
Как было рассмотрено выше, в СССР/России, в отличие от стран ЦВЕ, произошла полномасштабная революция. Крах государственных институтов в совокупности с развалом империи и отсутствием внешних стимулов для стабилизации требовал более длительного периода для преодоления системного кризиса. В результате при схожих по форме преобразованиях (либерализация, стабилизация, приватизация и т. д.) процессы посткоммунистической трансформации имели здесь ряд специфических черт.
Во-первых, макроэкономическая стабилизация продолжалась в течение более длительного периода. Инфляция, будучи по природе своей перераспределительным процессом, становилась инструментом политической борьбы, а ее темп отражал соотношение между теми, кто мог или выиграть, или проиграть от стабилизации. В условиях крайней слабости власти, ее зависимости от различных групп интересов уровень инфляции постоянно колебался; возникали неустойчивые политические коалиции, во имя создания которых приходилось жертвовать в том числе и макроэкономической стабильностью.
Во-вторых, вопросы собственности также становились важнейшим фактором политической борьбы. В принципе перераспределение собственности (в данном случае приватизация) может осуществляться для того, чтобы (1) создать эффективного собственника, (2) пополнить казну (фискальная задача), а также (3) получить (купить) политическую поддержку. В условиях революционного кризиса последнее неизбежно выходит на передний план – ведь при отсутствии политической определенности серьезные инвесторы (кандидаты в «эффективные собственники») не вкладывают свои средства в экономику. Тем самым перераспределение собственности проходит в целях расширения социальной базы правительства. Естественно, такое положение серьезно тормозит завершение кризиса и выход страны на траекторию устойчивого экономического роста.
В-третьих, кризис политических институтов становится препятствием на пути расширения предпринимательской активности. Как ни велика роль хорошего экономического законодательства, для предпринимателя гораздо большее значение имеет правоприменительная практика, способность правительства обеспечить исполнение законов. Важнее всего при этом состояние судебной и правоохранительной систем. Их неэффективность резко повышает трансакционные издержки, заставляя бизнес закладывать в себестоимость продукции дополнительные затраты (на защиту собственности, на частную милицию и правосудие), что заметно снижает конкурентоспособность.
Указанные особенности российской трансформации не являются абсолютно уникальными: все они в той или иной степени характеризовали великие революции прошлого. Вместе с тем модель посткоммунистического развития стран Центральной и Восточной Европы вряд ли можно считать альтернативой нашего переустройства. Имея схожие цели, мы достигаем их в неодинаковых условиях – опираясь на различные политические институты, полученные в наследство от последних коммунистических правительств. В российском случае – в наследство от перестройки.










