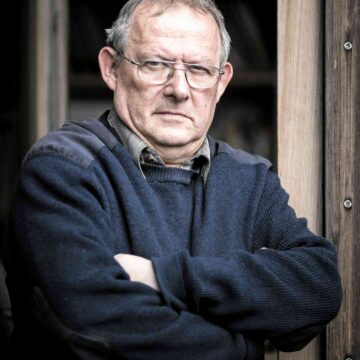Нам нужна моральная революция, потому что нас окружают «грязные души»: реакционеры, скрытые монархисты, люди мелкие, однодневные патриоты, составляющие заговоры в революционном правительстве, – так говорили якобинцы, радикальные революционеры. Моральная революция необходима, потому что процветает безнравственность. Реакционные газеты сеют обман, поэтому заставим их замолчать. Растет коррупция, поэтому пора взяться за богачей.
Францию со всех сторон опутали предатели, эти ядовитые насекомые, распространяющие бесстыдство, фальшь, подлость. Из-за них рассыпалась в прах мечта о государстве и обществе, которые разделяли бы единую систему ценностей, о законах, позволяющих сохранить достоинство и братство и опирающихся с 1789 года на потребность творить добро. Моральная революция нужна нам сегодня, когда есть шанс выйти из кризиса беспамятства, преодолеть проклятие пренебрежения опытом прошлого. Нам необходимо Очищение, то есть обретение способности служить делу Революции, осознание собственных ошибок, в частности пагубности толерантного отношения к «модерантистам» («снисходительные» – группа времен Великой французской революции, возглавлявшаяся в 1793 году Максимилианом Робеспьером и выступавшая за прекращение или ослабление террора и постепенный переход к конституционному республиканскому порядку. – Ред.).
Нам нужна моральная революция – ведь после возвращения Бурбонов воды революционного потопа отступили, убеждали консерваторы, радикальные реакционеры. Минула эпоха, когда во Франции господствовала крайняя безнравственность, когда цареубийцы диктовали свои права, когда добродетель унижалась, преданность преследовалась, собственность отчуждалась. Жестокий деспотизм, всевластие гильотины и революция, эта большая клоака, заразили нашу страну. Франция, отмытая от нечистот якобинства, возвращенная к своим монархическим и католическим корням, станет символом примирения между королем и подданными. Моральная революция нужна нам для того, чтобы вернуть мечту о разделяющих единую систему ценностей государстве и обществе, о законах, позволяющих сохранить те самые верность и достоинство, которым так привержены подданные короля, что стремятся творить добро. Только бы избежать компромисса с якобинскими и бонапартистскими ублюдками, которые хотят конституционной монархии, то есть короля без королевской власти, и которые не могут понять, что «любая конституция есть цареубийство»!
***
Знакомая интонация, не правда ли? И хотя исторические декорации сменились, я узнаю ее, испытывая все большую грусть и удивление. Ведь подобные декламаторы должны были бы отдавать себе отчет, к чему ведут такого рода рассуждения…
Мы не устаем повторять, что история учит, но при этом остаемся плохими учениками. Вот почему я размышляю сегодня об экстремистах революционных и контрреволюционных, тех, кто мечтал о Великом Очищении и моральной революции не для того, чтобы раз и навсегда заставить умолкнуть язык террора, а потому, что был готов слышать его вновь и вновь.
***
Корнелий Сулла, римский диктатор, начал свое правление с мести бывшим политическим противникам. Он приказал подготовить «проскрипционные списки», то есть списки лиц, поставленных вне закона; за их головы была назначена награда. «С душераздирающей неторопливостью, – пишут в «Истории Рима» Макс Кэри и Ховард Хейес Скаллард, – Сулла намеренно растягивал процесс определения новых жертв, то и дело оглашая дополнительные проскрипционные списки. Воцарился террор. Эта модернизированная система массовых убийств действовала избирательно и с особым возмездием обрушивалась на состоятельных противников Суллы. Их имущество подвергалось конфискации, а города Рима превратились в арену экзекуций». Страшно было оказаться в таком списке.
Столетия спустя такие списки превратились в неотъемлемую часть истории. Списки ведьм, сжигаемых на кострах, и еретиков, переданных в руки инквизиции, списки иезуитов, приговоренных к изгнанию, списки масонов, списки евреев и христиан, подозреваемых в еврейском происхождении, списки коммунистов и заподозренных в симпатии к ним, списки роялистов и других врагов революции, списки агентов охранки…
За составлением списков подозреваемых с неизбежностью следовала смертная казнь. Фактически само по себе подозрение, будь то в революционной, диверсионной или агентурной деятельности, в греховном прошлом и настоящем, в измене, означало и обвинительный приговор, и соответственно экзекуцию.
***
Великая французская революция свергла абсолютную монархию и установила монархию конституционную. В теории, пишет Гегель, бразды правления перешли в руки народа, но в реальности они оказались у Национального собрания и его комитетов. Воцарились абстрактные идеалы свободы и добродетели. Добродетель должна теперь править, торжествуя над теми, кто изменил ей вследствие морального разложения, служения прежним интересам или же злоупотребления свободой и полного подчинения своим страстям. Добродетель в данном случае представляет собой простой принцип деления людей на имеющих подходящие убеждения и не имеющих их. Но поскольку одно убеждение можно распознать и оценить только с помощью другого, оно рождает подозрение. Когда же добродетель оказывается под подозрением, она тем самым уже приговорена. Подозрение обрело ужасную силу и привело на эшафот монарха, субъективная воля которого определялась именно католической религиозной совестью.
Робеспьер, отмечает Гегель, сделал добродетель наивысшим принципом. К власти пришли добродетель и террор, так как субъективная добродетель, которая правит, основываясь единственно на принципе убеждения, приводит к самой жуткой тирании. Она осуществляет свою власть, обходясь без суда и следствия, а кара, которую она применяет, очень проста: смерть.
***
А как красиво все начиналось… Революция вершилась под знаком надежды обрести Свободу, Равенство и Братство. Бастилия – бастион и символ тирании – была захвачена. Король Людовик XVI пошел на компромисс с революционерами; абсолютизм пал. Казалось, что «король с народом, народ с королем». Кстати, Бастилия, куда некогда заключали врагов короля, в июле 1789 года была местом заточения лишь семи узников – четырех мошенников, двух умственно неполноценных и одного посаженного по воле собственного отца. Каков бастион, такова и тирания. Абсолютизм с «выбитыми зубами»…
И все же произошло историческое, эпохальное событие. Декларация прав человека и гражданина провозглашает: «Люди рождаются и остаются свободными и равными перед законом». Звучат слова Мари Жозефа де Лафайета о том, что народ становится свободным, как только сам того пожелает. Революционеры же повторяли: революция победила почти бескровно и открыла ворота, через которые Франция устремилась от тирании к свободе.
***
Реставрация тоже начиналась красиво. Вместе с Людовиком XVIII на смену длившемуся четверть века революционному и наполеоновскому хаосу пришло время примиренческих жестов и мягких высказываний. «Недоступный предубеждениям и чуждый мстительности» (так называл Людовика XVIII Франсуа Рене де Шатобриан, самый выдающийся из бурбонских идеологов) говорил: «Я от всего сердца прощаю всех тех, кто без повода с моей стороны стал моим недругом, и прошу Бога, чтобы он простил их».
От имени сторонников Реставрации Шатобриан провозглашал: «Мы желаем монархии, основанной на принципе равенства прав, на принципах морали, гражданской свободы, политической и религиозной толерантности».
В качестве акта примирения между Реставрацией и революцией Людовик XVIII подписывает Конституционную хартию, в которой гарантирует неприкосновенность собственности и сохранение дворянских титулов, пожалованных в эпоху Наполеона, а также декларирует основные свободы и гражданское равенство. Даже цареубийцам обещано прощение.
Людовик XVIII стремился успокоить французов, убеждая, что не хочет возмездия. Только «система умеренности», подчеркивал он, может предотвратить неизбежность того, чтобы «Франция растерзала себя собственными руками».
***
У каждой революции своя динамика; но каждая развивается чересчур медленно и в итоге оказывается либо незавершенной, либо преданной. Из недр каждой звучат призывы к ускорению, завершению, защите от измены делу революции.
Компромисс между революцией и монархом, позволивший учредить конституционное правительство и принять Декларацию прав человека и гражданина, революционеры праздновали как свою победу. Но этот компромисс, основанный на обоюдном согласии обозначить пределы своим притязаниям (согласие монарха ограничить свои полномочия, с одной стороны, и готовность революционеров умерить собственные требования – с другой), оказался хрупким. Радикальные монархисты видели в нем капитуляцию короля, радикалы Революции – предательство ее идеалов. На подавление смуты следует бросить войска, считали первые. Долой короля, да здравствует республика, отвечали вторые. Якобинцы взяли верх. Монархисты бежали за границу, а король был заточен в тюрьму, осужден и обезглавлен. Каждый голос против ликвидации монархии – той, конституционной – теперь почитался изменой, равно как и мнение тех, кто взывал к нормальному судопроизводству или хотя бы к отмене смертного приговора.
Революция, начатая во имя свободы, перерождалась в действия, направленные на установление республиканского порядка, против конституционной монархии. Речь шла уже не о свободе, а о республике; те же, кому такая постановка вопроса была не по душе, подозревались в измене. Спор о республике в самом лагере революции превращался в беспощадную борьбу за власть.
***
У каждой реставрации своя динамика; но каждая развивается чересчур медленно и в итоге оказывается либо незавершенной, либо преданной. Из недр каждой реставрации на свет появляются радикальные ортодоксы – приверженцы дореволюционных институтов и обычаев. Эти экстремисты, хранители священного огня, отвергают любой компромисс между Традицией и Революцией: ведь Революция в их глазах – абсолютное зло, апогей абсурда и моральной деградации. «Чистая нечистота», «чудеса порчи, чудеса бессмыслицы, чудеса бандитизма» – так отзывался о революции Жозеф де Местр (Жозеф Мари де Местр – французский публицист, политический деятель и религиозный философ, один из вдохновителей и идеологов европейского клерикально-монархического движения 1-й половины XIX в. – Ред.). Экстремист воспринимает Конституционную хартию Людовика XVIII как нелепость, «порождение безумия и темноты». Пора покончить с химерой прав человека, вернуть цензуру и привилегии дворянского сословия, а католической церкви надлежит охранять порядок от «общественных отбросов равенства».
Экстремисты явно ничего не имели против того, чтобы «Франция растерзала себя собственными руками».
***
Нет никаких причин подвергать сомнению добрые намерения экстремистов-революционеров. Якобинцы и вправду хотели спасти революцию от роялистов, иностранных войск, предрассудков, измены и коррупции. Они, прилежные читатели энциклопедистов и Жан Жака Руссо, действительно стремились к тому, чтобы Францией правила добродетель. Во имя торжества над монархистами и аристократами-эмигрантами они конфисковывали их состояния и закрывали их газеты. Чтобы победить в войне – добивались сплоченности вокруг революционного правительства и карали за каждый «шаг в сторону». Чтобы избавиться от предрассудков – заставляли католических священников присягать на верность революции, а отказавшихся приговаривали к изгнанию. Чтобы искоренить измену и коррупцию – приняли Закон о подозрительных, согласно которому обыватели были обязаны доносить на сограждан. Число доносов стало мерой преданности делу революции. Францию охватил страх. Настали времена террора. Страна превратилась в театр одного актера – революционной гильотины.
Якобинцы видели в гильотине оружие революционной самообороны. Верили, что и революция, и гарантия стабильности правления Свободы и Добродетели – это они сами. Поэтому, жестоко защищая свою власть, они не испытывали особых угрызений совести, и каждый критикующий получал клеймо предателя.
Началось с суда над Людовиком XVI. Король виновен, потому что он король, и никто даже не озаботился сбором доказательств его виновности. Монарха следовало обезглавить – ведь приговор ему вынес народ в лице своих представителей.
В ответ на предложение организовать по этому вопросу референдум Антуан Луи де Сен-Жюст, экстремист-якобинец, казненный впоследствии термидорианцами, заявил: «Подобный призыв – это не что иное, как попытка поссорить народ с законодателями, а значит, ослабить сам народ! Эта интрига – способ вернуть тирана в его дворец… спасти короля с помощью голосов, оплаченных иноземным золотом». Монархия, подчеркивал он, есть вековечное преступление, а монарх – это варвар, тиран, чужак. Во имя общественного блага король должен умереть, иначе думают только пособники тирана и подкупленные. После этих страстных слов, приведших в трепет депутатов Национального собрания, экзекуция короля стала делом решенным. Справедливость и общественное благо (в якобинском понимании) победили в споре с логикой милосердия, прощения и примирения.
Казнили не только Людовика XVI – смерти символически предали и старый порядок. Гильотина для короля обозначила новые нормы грядущей эпохи. Свобода и Добродетель вступили в союз с гильотиной.
***
В ходе каждой революции – на каком-то из ее виражей – случается, что вчерашний радикал становится сегодняшним умеренным. Если ему повезет, его обвинят в трусливом оппортунизме, если нет – в измене и участии в контрреволюционном заговоре.
Владимир Ленин, опытный революционер, писал, что в то время как жирондисты предпочитали мягкие, реформаторские средства уничтожения самодержавия, якобинцы хотели, чтобы народ расправился с монархией и аристократией «по-плебейски», безжалостно истребляя врагов и не делая никаких уступок проклятому наследию.
Такой была якобинская мораль в представлениях Ленина, который с успехом – по-большевистски – воплощал ее в жизнь. Нетрудно понять, почему «вождь мирового пролетариата» расхваливал «плебейский» якобинский террор. Но почему мягкий и компромиссный путь жирондистов вызывает презрение, почему их постоянно обвиняют в моральном релятивизме и стирании границ между добром и злом, почему в стремлении к плюрализму и компромиссу с противниками видят предательство моральных принципов?
Якобинцы воспринимали своих противников как заговорщиков против свободы и добродетели. В свободу и добродетель они верили фанатично, хотя понимали их по-своему. Символом свободы была захваченная Бастилия, из которой выпустили семь человек, – в тюрьмах якобинской диктатуры томились тысячи. Правительство террора, справедливо писал Фридрих Энгельс, – это правительство людей, которые сеют вокруг себя страх, но при этом напуганы сами.
Якобинцы декларировали, что, защищая дело свободы, они противодействуют заговору изменников и врагов революции, или, проще говоря, появлению оппозиции якобинскому правлению. Заговор, по мнению историка Франсуа Фуре, – это идея, которая типична как для традиционной религиозной ментальности, «привыкшей считать зло плодом скрытых сил», так и для революционного сознания. Происками заговорщиков можно объяснить что угодно: высокие цены, отсутствие продуктов, скандалы, связанные с подкупом…
Сен-Жюст разоблачал жирондистов; он говорил, что «в лоне Национального конвента свил гнездо заговор, имеющий целью восстановление тирании». У них «зловещие» планы и «изощренные» методы. «Речь не идет о прямых и открытых врагах свободы. Они говорят ее языком, представляются ее защитниками».
Заговорщиков разоблачили – часть их бежала, остальных заключили в тюрьму. «Не все узники, – разъяснял Сен-Жюст, – виновны; большинство из них просто заблуждались. Но в борьбе с заговором спасение Отчизны есть наивысший закон». Когда трудно отделить ошибку от преступного умысла, надо пожертвовать свободой нескольких ради спасения всех. Фракция заговорщиков, «таинственная и политически опытная, якобы озабоченная свободой и порядком, ловко противопоставляла свободу свободе, не отличала инерцию от порядка и мира, а республиканский дух от анархии». «Внушая отвращение к господствующим отношениям и пользуясь ужасом нынешних дней», она шла бок о бок с народом и свободой, чтобы направлять их к своей цели – монархии.
Таков язык Сен-Жюста, которым восхищался Альбер Камю, считая этого якобинца великой личностью. Робеспьера же называли Неподкупным. Это они, Робеспьер и Сен-Жюст, стали символами жестокого террора, мерзости доносительства, гильотины, обезглавливавшей всех без разбору. А за спинами этих идеалистов жестокости и апостолов террора шныряли (такова судьба каждой революции) обычные мерзавцы, которые использовали революционную риторику и эшафот для грязного сведения счетов, подлых шантажей, обогащения.
Идеалист-фанатик готов отдать жизнь за свои идеалы, хотя во имя этих идеалов охотнее умерщвляет других. Но перед тем как лишить их жизни, он убивает их словом.
Служить Добродетели возможно было только одним способом – ненавидеть ее врагов. Ненависть, отмечала польский философ Барбара Скарга, – это «чувство, при помощи которого мир не может восприниматься иначе, нежели через отрицание. Даже в том, что другим кажется ценным, важным, она отмечает исключительно коварство, упадок, обман, ибо таково с позиции ненависти естественное состояние человеческой природы. Но ненависть отнюдь не стремится к улучшению – напротив… она с удовлетворением фиксирует каждую ошибку, каждое неудачное начинание… Ей важно отравить все вокруг и просочиться повсюду, охватить все общество целиком».
По мнению Скарги, одержимые ненавистью люди – это те, у кого «расшатана идентичность», кто «слаб», «подвержен влиянию», «амбициозен» и «ничтожен». Именно такими персонажами кишели якобинские клубы и революционные трибуналы. Но наркотик революции опьянил также и людей порядочных, идейных и сильных, превратив их в ловких манипуляторов, циничных политических игроков, демагогов с ядовитыми речами и черствым сердцем, членов религиозной секты, превращенной в бандитскую шайку.
Идеалист-фанатик, якобинский экстремист верил, что Революция позволит покончить со «всяким злом». Поэтому он никогда не выступал от своего имени – он вещал и карал от имени Революции и Народа, от имени Свободы и Добродетели.
Добродетель только тогда имеет ценность и вызывает восхищение, когда рядом с ней шествует Порок. Поэтому справедливым и незапятнанным жизненно необходимы всеобщая несправедливость и всеобъемлющий грех.
Якобинец «восхваляет нищих», замечает Ханна Арендт (германо-американский философ и историк, автор известного труда «Истоки тоталитаризма». – Ред.), но «его похвала страданию как источнику добродетели» обычно служила «чистым предлогом для оправдания жажды власти». При этом якобинец не испытывал сочувствия к отдельным личностям – он скорбел о «безграничном страдании масс», о мучениях миллионов. Тем самым, продолжает Арендт, Робеспьер утратил способность устанавливать и поддерживать отношения с конкретными личностями. Океан страдания вокруг него «затопил все другие аргументы, взывающие о дружбе, правдивости, верности принципам. Революция во имя Добродетели и Свободы превращалась в диктатуру вероломных обманщиков: якобинцев и их правительство ничуть не волновала судьба конкретных людей, обиженных и оскорбленных. Этими несчастными легко можно было пожертвовать во имя Революционного Очищения. Так, Очищение становилось чисткой, призванной смыть грязь лицемерия с незапятнанного облика революционной Добродетели. В результате среди главных действующих лиц революции не осталось никого, кто бы не был обвинен или, по крайней мере, заподозрен в продажности, фальши и двуличии. А также в измене, сговоре с двором либо получении инструкций и денег из Лондона или Вены.
Перед казнью Дантон (Жорж Жак Дантон – один из вождей якобинцев, казнен в 1794-м в связи с тем, что занял умеренную позицию по отношению к жирондистам. – Ред.) якобы сказал: «Во времена революций власть в конце концов достается самым большим мерзавцам». А на подходе к эшафоту выкрикнул: «Робеспьер, ты пойдешь за мной!»
Что и произошло спустя четыре месяца.
***
Любая реставрация не оправдывает ожиданий своих радикальных сторонников.
После вступительных деклараций о снисхождении и понимании, вслед за призывами «забыть о разделяющей Францию ненависти» наступил момент, когда экстремистов Реставрации охватило разочарование. А после «ста дней» Наполеона, этого непродолжительного периода идиллии в 1815 году, во Франции наступило время реванша со стороны «белых якобинцев».
Теперь экстремисты заявляли неблагодарным французам, что Людовик XVIII был «якобинцем, увенчанным цветком лилии». Они убеждали прекратить призывы к примирению, так как между партией палачей и партией жертв не может быть мира. Настало время свершиться правосудию – разумеется, во имя Великого Очищения Франции от адской грязи Революции и империи. Ибо, доказывали экстремисты, Революция – дитя гордыни и безумия, питавшееся трупами, чудовище, находившее наслаждение в разбоях, пожарах, резне и экзекуциях. Нужно вернуть старые предреволюционные законы и обычаи, привилегии для дворянства, аристократии и католической церкви, вернуть покорность и цензуру. «Свобода печати и свобода прессы – самые страшные бедствия нашего злосчастного времени», – полагали экстремисты.
Они искренне верили, что возврат к дореволюционному «золотому веку» необходим и реален. При этом они били тревогу: мол, Революция все еще сильна и большинство постов в правительстве занимают сторонники якобинцев и бонапартисты. Поэтому нужна Большая Чистка.
Белый террор утопил Францию в крови. Партизаны-роялисты взяли на себя роль мстителей, действуя в «лучших» традициях инквизиции. Репрессии ударили по всем подозрительным, а подозревать можно было каждого – не в якобинстве, так в бонапартизме. Тело убитого в Авиньоне наполеоновского маршала Гийома-Мари-Анн Брюна проволокли по улице и сбросили в Рону.
Королевское правительство издает проскрипционные списки. Возобновлена цензура. Топор палача возвращает гармонию и порядок. «Нужны кандалы, палачи, пытки, смерть; якобинцев – на плаху; необходим спасительный страх».
Когда Палата пэров судила известного наполеоновского маршала Мишеля Нея, приговор выносили его товарищи по оружию. Бывшим военным (за исключением Жанно де Монсея, отказавшегося председательствовать на процессе и посаженного за это в крепость, а также свидетеля защиты маршала Луи Николя Даву, много сделавшего для оправдания своего боевого соратника) не хватило чести и отваги – Нея осудили и расстреляли. Возрождая былые рыцарские добродетели, государство теперь опиралось на людей, способных доходить до низостей, проявлять трусость, угодничать, предавать.
Насилие, призванное гарантировать торжество Добродетели, превратилось в инструмент подлости. В лагере реставрации, по мере того как сдержанные и снисходительные теряли позиции, радикалы набирали вес. Реставрация, осуществленная по их схеме, должна была стать Большой Контрреволюцией, то есть революцией – тоже моральной – с отрицательным знаком.
Следовало свести на нет результаты всех перемен, произведенных Революцией: покончить с фантазиями просветителей на темы «общественного договора», конституции, «прав человека и гражданина», «парламентского представительства». Надлежало восстановить абсолютную монархию, потому что якобы только она способна вернуть порядок, установленный Господом и охраняемый католической церковью.
Пример для подражания был под рукой – испанская инквизиция. Инквизиторы, утверждали экстремисты, понимают, что смертью должно караться каждое серьезное покушение на религию. Никто не имеет права критиковать королей Испании… Глашатаев ереси следует причислять к самым злостным преступникам… Действуй во Франции инквизиция, до Революции дело никогда бы не дошло. Поэтому, отказываясь от костров инквизиции, правитель наносит человечеству смертельный удар.
Прямым следствием такого мышления явился Закон о святотатстве, введенный экстремистами в годы Реставрации. Согласно ему, святотатством считалось «любое оскорбление действием, совершенное сознательно и из ненависти к религии в отношении храмовых сосудов или освященных облаток. Осквернение храмовых сосудов влечет за собой наказание в виде смертной казни. Осквернивший освященные облатки подлежит той же каре, что и отцеубийца». (Напомню, что отцеубийцам отрубали сначала кисть, а потом голову.)
Напрасно Шатобриан, бесспорный легитимист, убеждал, что основой и языком религии является милосердие. Возобладала позиция экстремистов – тех, кто верил, что «крупные политические поражения, и в особенности решительные атаки на государство можно предотвратить или отразить только с помощью столь же решительных средств». Самым же действенным из таких средств является насилие. Насилие вершит порядок, «удерживает замахнувшуюся для удара руку и грозит оковами, мечом, кнутом, виселицей».
Против бунтовщиков нужно высылать «солдат и палачей». Палач – вот кто истинный гарант порядка, побеждающего хаос, грязь и бунт.
Английский философ Исайя Берлин писал об авторе «Портрета палача»: де Местр был искренне убежден, что спасение человека возможно только благодаря террору со стороны властей, держащих его в повиновении. Человек «должен очиститься через длительное страдание», поскольку он безумен, низок и беспомощен. Те, кого Творец назначил для управления, обязаны безжалостно диктовать правила и столь же безжалостно истреблять врагов. Во имя моральной контрреволюции и Очищения.
***
Кто есть враг, искажающий гармонию Свободы и Добродетели во дни Революции?
Кто есть враг, возмущающий Божий порядок на земле и нарушающий установленную иерархию с наместником Христа во главе государства?
«Красный» экстремист ответит то же, что и «белый якобинец»: этот враг – секта. «Во Франции существует политическая секта», – не сомневался Луи Сен-Жюст. Состоящая из явных и тайных монархистов, мечтающих об отстранении Людовика XVI, но не о ликвидации монархии, как таковой, эта секта отравляет общественную жизнь. Ее члены требуют мягкости и умеренности, амнистии для врагов и примирения с врагами Добродетели. Они порочны и самонадеянны, продажны и развращены. Это эмигранты и британские агенты, мешочники и воры, взяточники и спекулянты, слабаки и посредственности, брюзги и сеятели раздора, лицемеры и бесплодные крикуны.
Общественная жизнь оплетена паутиной этой секты. Общество, где корысть и зависть действуют подобно скрытым пружинам вражьих происков или попыток безнравственных людей избежать правосудия с помощью подкупа, должно «приложить величайшие усилия, чтобы очиститься». «Нет надежды на удачу, пока еще дышит последний враг свободы, – уверял Сен-Жюст. – Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных; карать каждого, кто пассивен в республике и ничего для нее не делает». Пускай очистительный огонь свободы разгорается как можно ярче!
Пора, взывал Сен-Жюст, вернуться к моральным принципам и ударить террором по злодеям. Пора объявить войну разнузданной коррупции, призвать всех к экономии и скромности, соблюдению гражданских добродетелей. Пришло время уничтожить врагов народа, заискивающих перед безнравственностью и страстями развращенных личностей, чтобы с их помощью сколачивать клики, вооружать одних граждан против других и в ходе внутренней усобицы опрокинуть власть и служить загранице.
А чем являлась секта в глазах де Местра? Это те, кто растлевает народ или пытается свергнуть установленный порядок. Сеятели смуты и диверсанты. «К протестантам и янсенистам, – писал Исайя Берлин, – де Местр прибавлял деистов и атеистов, масонов и евреев, ученых и демократов, якобинцев, либералов, утилитаристов, антиклерикалов, эгалитаристов, сторонников тезиса о возможности достижения совершенства, материалистов, идеалистов, юристов, журналистов, светских реформаторов и всякого рода интеллектуалов. Все, кто апеллирует к абстрактным принципам, верит в индивидуальный разум или в индивидуальную совесть, в свободу личности или в рациональную организацию общества; протестанты и революционеры – враги установленного порядка, и их необходимо любой ценой искоренить».
Такую секту нужно уничтожить – решительно и безжалостно во имя порядка Божия. Де Местр – как и любой консерватор – был убежден, что те, кто начинает революцию под знаменем свободы, закончат ее как тираны. Критикуя доктрину якобинцев, он замечал с сарказмом, что те как будто посылают народу сигнал: «Вы считаете, что не хотите этого закона, но мы уверяем вас, что на самом деле вы о нем только и мечтаете. Если вы осмелитесь его отвергнуть, мы расстреляем вас в наказание за то, что вы не хотите того, чего хотите». Так они и делают, заключал де Местр.
Нужно признать правоту этого «белого якобинца», самого выдающегося из радикалов. Приватизировав Революцию, якобинцы, «красные» экстремисты, тем самым приватизировали народ. Мадам Гильотина весьма способствовала тому, чтобы каждый француз стал собственностью Революции.
Вместе с тем экстремисты приватизировали и Бога. Утопист Луи Огюст Бланки обвинял Робеспьера в том, что последний расправлялся с приверженцами атеизма с целью вернуть католической церкви ее былое значение. Потому-то Неподкупный и принес католическим священникам в жертву голову Шометта (Пьер Гаспар Шометт, левый якобинец, инициатор политики дехристианизации – попытки упразднить в годы революции католический культ и ввести в принудительном порядке рационалистический «культ Разума». Казнен в 1794 году. – Ред.). Бланки писал: «Какой же приятной неожиданностью для сынов и наследников инквизиции было видеть, что Бог снова оказался под опекой топора… Головы падали во славу бессмертия души. Еретиков сделали зависимыми от властителя-палача. Гильотина заменила костры».
Подчеркнем метко подмеченную тесную связь между гильотиной и костром. Гильотина якобинцев была дочерью костра инквизиции, пускай и зачатой вне брака. И костер, и гильотина должны были служить Очищению, моральной революции, так же как они всегда служили безграничным притязаниям властей, убежденных в том, что именно им принадлежит право распоряжаться абсолютной добродетелью.
А это, как известно, всегда плохо заканчивается…
***
«Красный» экстремист, например Робеспьер или Сен-Жюст, имеет легион защитников. Есть они и у «белого якобинца» де Местра.
Защитники подчеркивают безупречность и непреклонность Робеспьера, восторженную мечтательность и доброту Сен-Жюста, личное обаяние и радушие де Местра (говорили, что его «Портрет палача» – выражение ужаса перед якобинским террором и своеобразный реванш, поскольку жертвами палача ему представлялся не кто-либо, а Робеспьер или Сен-Жюст).
Я охотно признАю правоту адвокатов «красных» экстремистов и «белых якобинцев». Но ведь в риторике и духовности тех «красных» проявляются очертания идеологии и лозунгов других красных революционеров – большевиков; на иконе Робеспьера проступают образы Ленина и Сталина, а в стуке падающего ножа гильотины слышится грохот сапог карателей из советской «чрезвычайки».
В свою очередь, в перечне противников Божьего порядка, составленном де Местром, мы видим тех же, кто в ХХ веке пополнил список врагов фашизма. Как отметил Исайя Берлин, «бурная ненависть де Местра к свободному движению идеи, а также его презрение к интеллектуалам – это не просто консерватизм… но что-то более старинное и в то же время новое, что-то, в чем звучат и эхо фанатичных голосов инквизиторов, и, пожалуй, самые первые ноты воинствующего, антирационального фашизма наших дней».
Идеи, записанные на бумаге, слова не невинны – они живут собственной жизнью, воспитывают или развращают. Слова формируют систему моральной и интеллектуальной интерпретации мира – такой, которая позволяет увидеть в гильотине врата к Свободе и Добродетели, а в топоре палача – дорогу к Богу. Поэтому история якобинцев, «белых» и «красных», учит: необходимо моральное знание о том, что не существует благородных ценностей и задач, которые оправдывали бы применение неблагородных средств и методов. Нельзя унижать людей во имя их возвеличения, нельзя сеять страх во имя добродетели и моральной революции, нельзя распространять наркотик подозрительности во имя правды и очищения. И надо помнить: ни одному человеку Богом не дано власти над себе подобным; никто не должен оставлять заботы о собственном спасении ради спасения другого человека; к вере не принуждают ни силой, ни шантажом, а крест есть знак страдания Господня, а не бейсбольная бита для лупцевания противников.
***
Я уже слышу ироничные комментарии: все это, мол, пустая моралистика, избитые пресные фразы прекраснодушного идеалиста, не желающего понять, что у революций есть свои законы.
Но в том-то и дело, что экстремисты реставрации оказались ничем не лучше экстремистов-революционеров. Быть радикальным революционером – значит переступить грань. Атаковать конституцию во имя утопии, республику во имя совершенной республики, упрекать гильотину за излишнюю мягкость к врагам, клеймить поборников умеренности как предателей революции, являться более красным, чем красные, более плебейским, чем плебеи, более «бешеным», чем самые радикальные радикалы, более бдительным, чем трибуналы бдительности, более подозрительным, чем знаменосцы подозрительности. Оставаться столь ярым защитником революции, что отправлять на плаху своих соратников.
Быть радикальным поборником реставрации – значит тоже переступать грань. Как писал Виктор Гюго, это означает атаковать скипетр во имя трона, митру во имя алтаря, пренебрегать вещами, которые несешь на собственном горбу; это значит испытывать недовольство пожирающим еретиков костром из-за того, что в нем не хватает жару, упрекать божество за недостаток божественности, оскорблять от избытка уважения, утверждать, что в папе мало папского, а в короле – королевского, что ночь слишком светла; во имя белизны не признавать алебастр, снег, лебедя, лилию, являться сторонником определенных вещей до такой степени, что становиться их противником…
В одном и тот и другой всегда найдут согласие: где лес рубят, там щепки летят. Так вот, я и есть щепка. Но прежде чем моральные революционеры станут обходиться со мной как со щепкой – во имя Добродетели и Свободы, во имя Божьего порядка и откровения, – позвольте мне сказать: «Без меня, дамы и господа! Я уже проходил этот урок».
Но тогда меня спросят: «А знаешь ли ты, брюзга из секты вечно недовольных и испуганных, революцию, которая проходила бы иначе?»
Разные бывали революции, отвечу я.
Английскую буржуазную революцию 1688–1689 годов назвали «славной». Настоящую славу этой революции, писал английский историк Джордж Маколей Тревельян, составляет достижение единодушного понимания по вопросу религиозных и политических различий. Это понимание выдержало проверку временем, укрепило позиции свободы в общественной жизни и утвердило практический компромисс в мире религиозных страстей.
Люди 1689-го героями не являлись, утверждал Тревельян. Лишь немногих из них можно было считать вполне порядочными. Но речь идет о весьма благоразумных людях, которые, наученные горьким опытом, даже в самый критический момент действовали рассудительно и умеренно.
Опасность вынудила враждующих вигов и тори заключить компромисс – конституционное соглашение («Билль о правах» 1689-го ограничил власть короля и закрепил всю законодательную деятельность за парламентом. – Ред.). Тогда же был принят Акт о терпимости (закрепивший права протестантских меньшинств. – Ред.). Последний означал для одних (меньшинствЗ) право жить в соответствии с собственной совестью, для других (большинства) – достигнутый во имя спокойствия компромисс с носителями «ошибочных», на их взгляд, воззрений.
«По прошествии тысячи лет, – делал вывод Тревельян, – религия наконец освободилась от необходимости обращаться к жестокости ради торжества своих принципов». Размышляя об Акте о терпимости историк говорит о лоскутном одеяле, состоящем из компромисса, нелогичности и «политического здравого смысла». Мудрые британцы, мудрый Тревельян…
***
Нам, ворчунам из секты недовольных и испуганных, грезится нечто подобное. Мы не хотим новых моральных революций, натягивания вожжей, специальных комиссий для выслеживания противников добродетели или Божьего порядка, проскрипционных списков врагов и т. д.
Нам, брюзгам, грезится именно такое одеяло – сотканное из компромисса и здравого смысла. Нам, брюзгам, претят новые революции в стране, еще не пришедшей в себя после нескольких предыдущих…
Данный материал – сокращённая версия эссе, опубликованного в Gazeta Wyborcza в апреле 2005 года.